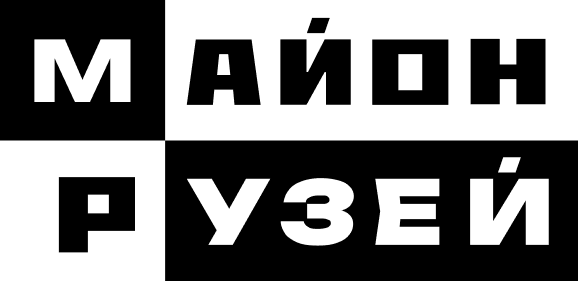СЕЛО ИЗМАЙЛОВО
Село Измайлово известно с конца XIV века, с XVI века принадлежало роду Романовых. С их приходом на трон стало царским. Первоначально село находилось на территории острова и состояло из одного ряда изб переселенных сюда из разных губерний крестьян. С увеличением числа жителей в XVII веке село перевели за пруд, на север от острова, где оно и оставалось вплоть до середины XX века. Переселенные крестьяне селились семьями и образовывали в селе слободы, названные в память о тех местах, откуда они были родом: Колдомка от Колдомской волости Костромского уезда, Аламовка напоминала о деревне Аламове Переславль-Залесского уезда, Панская и Хохловская слободы были заселены уроженцами Речи Посполитой.
Основными улицами села были Новая Спасская, Панская – они проходили с запада на восток. Их пересекала улица Хохловка. Параллельно ей на востоке села шла улица Колдомка.
В XIX⎯XX веках село Измайлово имело следующие адреса:
Московский уезд, 1-й стан, село Измайлово (1837⎯1861)
Московский уезд, Ростокинская волость, 7-й стан, село Измайлово (1861⎯1899)
Московский уезд, Ростокинская волость, 2-й стан, село Измайлово (1899⎯1917)
Основными улицами села были Новая Спасская, Панская – они проходили с запада на восток. Их пересекала улица Хохловка. Параллельно ей на востоке села шла улица Колдомка.
В XIX⎯XX веках село Измайлово имело следующие адреса:
Московский уезд, 1-й стан, село Измайлово (1837⎯1861)
Московский уезд, Ростокинская волость, 7-й стан, село Измайлово (1861⎯1899)
Московский уезд, Ростокинская волость, 2-й стан, село Измайлово (1899⎯1917)
Стан – территориально-полицейская единица уезда.
Волость – административно-территориальная единица уезда.
Волость – административно-территориальная единица уезда.
В 1837 году в Московском уезде происходило очередное формирование границ. Станы вместо названий получили номера. Село Измайлово попало в 1-й стан. После крестьянской реформы 1861 года были сформированы территориально-административные единицы – волости. В Московском уезде было образовано 18 волостей и 8 станов. Село Измайлово попало в Ростокинскую волость, 7-й стан, к 1899 году – 2-й стан. К 1917 году территории волостей изменились, село Измайлово вошло в состав Измайловской волости. В 1918 году названия волостей вновь изменили – наше село оказалось в Реутово-Балашихинской волости и через несколько месяцев в Разинской волости, просуществовавшей до 1929 года.
Село разрасталось постепенно. В XIX веке бывали времена, когда население сокращалось. В 1858 году здесь насчитывалось 154 крестьянских двора. В 1869 году 266 дворов. Тогда в Измайлове было 10 лавок, несколько питейных домов и трактир. В 1873 году число дворов в селе уменьшилось, всего осталось 166, в которых проживало 494 человека. В 1870-е годы в селе находились:
В 1882 году крестьянских дворов стало уже 200, в них жили 1178 человек. В 1886 году население вновь немного уменьшилось – 174 двора, 1131 человек. И уже к концу века в селе проживало более трех тысяч человек. Одной из причин упадка были постоянные пожары, о которых часто сообщали газеты. Об одном из измайловских пожаров в 1873 году написал Ф.М. Достоевский.
Село разрасталось постепенно. В XIX веке бывали времена, когда население сокращалось. В 1858 году здесь насчитывалось 154 крестьянских двора. В 1869 году 266 дворов. Тогда в Измайлове было 10 лавок, несколько питейных домов и трактир. В 1873 году число дворов в селе уменьшилось, всего осталось 166, в которых проживало 494 человека. В 1870-е годы в селе находились:
- Питейный дом купца Варайского уезда Григория Родионова на арендованной земле Д. Колошиной.
- Мелочная лавка крестьянина Алексея Васильева.
- Мелочная лавка крестьянки Аксиньи Прохоровой.
- Мелочная, овощная лавка крестьянина Петра Гавриловича Попова.
- Мелочная, овощная лавка московского купца Владимира Дорохова.
- Мелочная, овощная лавка московского купца Ивана Иванова на арендованной земле крестьянки Жеребцовой.
- Питейный дом и мелочная лавка московского купца Ивана Скоробогатова.
- Питейный дом и мелочная, овощная лавка московского купца Михаила Павлова.
- Мелочная, овощная лавка Ивана Артемичева на арендованной земле крестьянина Михаила Архарова.
- Мелочная, овощная лавка крестьянина Александра Безрукова.
- Трактирное заведение крестьянина Ивана Яковлевича Савина. И здание, и землю он арендовал у Александра Бутюгина. В 1908 году здесь был трактир Т.Н. Овечкина.
В 1882 году крестьянских дворов стало уже 200, в них жили 1178 человек. В 1886 году население вновь немного уменьшилось – 174 двора, 1131 человек. И уже к концу века в селе проживало более трех тысяч человек. Одной из причин упадка были постоянные пожары, о которых часто сообщали газеты. Об одном из измайловских пожаров в 1873 году написал Ф.М. Достоевский.
ПОЖАР В СЕЛЕ ИЗМАЙЛОВО
“
Пожарный сезон! Разумеется, он наступил; не миновать же ему этот год. Между другими известиями, сообщаемыми в наши газеты, особенно характерно выдается известие в № 134 «Московских ведомостей»[1] о пожаре в селе Измайлове, и не о пожаре собственно (пожар как пожар, везде бывают такие и много еще будет таких, по всей вероятности), но об особых обстоятельствах при этом пожаре. Вот что говорит корреспондент в заключение своего известия:
«Вообще этот пожар замечателен во многих отношениях: недостаток в воде ощущался громадный; пруд от села отстоит далеко; у крестьян, по их нерадению и беспечности и, главное, пьянству, нет не только пожарной трубы, багра, но самого необходимого в их домашнем быту — лома, топора и ведра, так что женщины заливали огонь подойниками. Все это пропито и заложено в трактирах и кабаках».
...
Любопытно бы, если б возможно было, вывести цифру: насколько пьянство способствует усилению пожаров? Что оно способствует — это несомненно. Какой осторожности ждать от пьяного человека? А у нас ведь загорелось у одного, так сгорело и у всех. Ну а если сплошь пьяны, как, например, в большой табельный или приходский праздник? Разумеется, тут «нельзя не сгореть», и если не горят, то разве в виде какого-нибудь исключения. Так по крайней мере должно выходить по теории. В практике оно выходит несколько иначе, то есть гораздо менее выгорают, чем бы следовало по предположению. Но, боже мой, что же и делать мирским людям в праздник, если не пить? Чем заняться? Подумал ли кто-нибудь хоть раз до сих пор: чем бы это занять в праздник миллионов шестьдесят русского населения? ...
[1] Корреспонденция «Пожар в селе Измайлове» была опубликована в «Московских ведомостях» от 1 июня 1873 г. (№ 134)
«Вообще этот пожар замечателен во многих отношениях: недостаток в воде ощущался громадный; пруд от села отстоит далеко; у крестьян, по их нерадению и беспечности и, главное, пьянству, нет не только пожарной трубы, багра, но самого необходимого в их домашнем быту — лома, топора и ведра, так что женщины заливали огонь подойниками. Все это пропито и заложено в трактирах и кабаках».
...
Любопытно бы, если б возможно было, вывести цифру: насколько пьянство способствует усилению пожаров? Что оно способствует — это несомненно. Какой осторожности ждать от пьяного человека? А у нас ведь загорелось у одного, так сгорело и у всех. Ну а если сплошь пьяны, как, например, в большой табельный или приходский праздник? Разумеется, тут «нельзя не сгореть», и если не горят, то разве в виде какого-нибудь исключения. Так по крайней мере должно выходить по теории. В практике оно выходит несколько иначе, то есть гораздо менее выгорают, чем бы следовало по предположению. Но, боже мой, что же и делать мирским людям в праздник, если не пить? Чем заняться? Подумал ли кто-нибудь хоть раз до сих пор: чем бы это занять в праздник миллионов шестьдесят русского населения? ...
[1] Корреспонденция «Пожар в селе Измайлове» была опубликована в «Московских ведомостях» от 1 июня 1873 г. (№ 134)
Архивные документы о разрешении на постройки домов за 1870-е годы так же говорят о постоянном бедствии в виде пожаров.
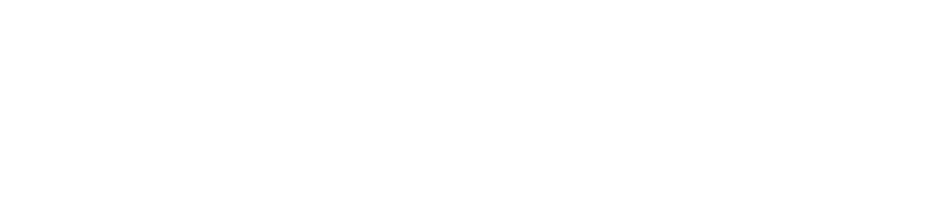
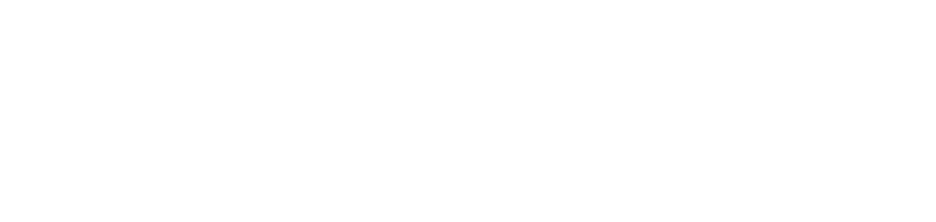
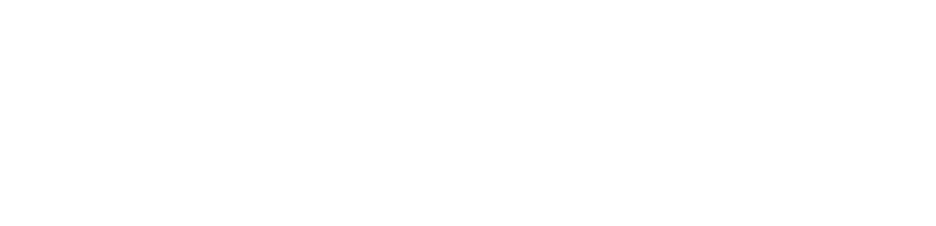
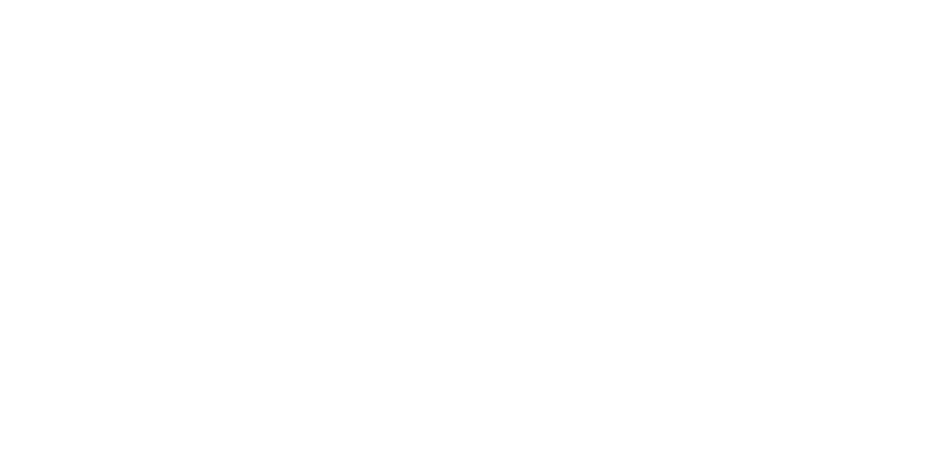
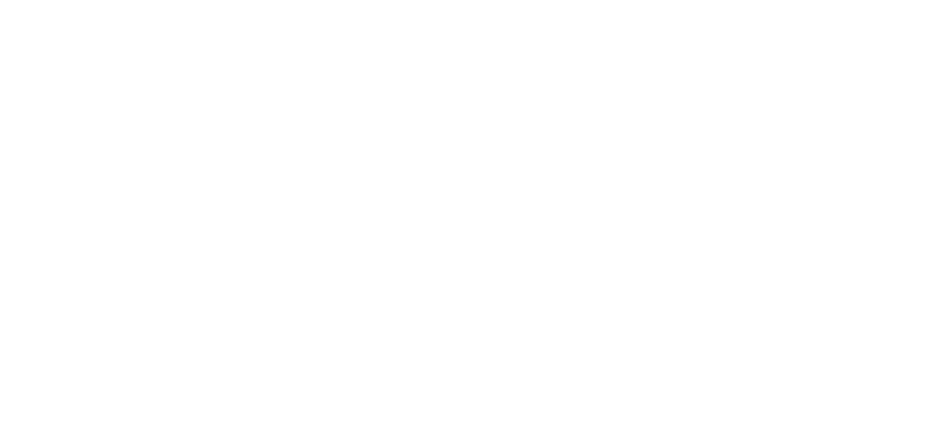
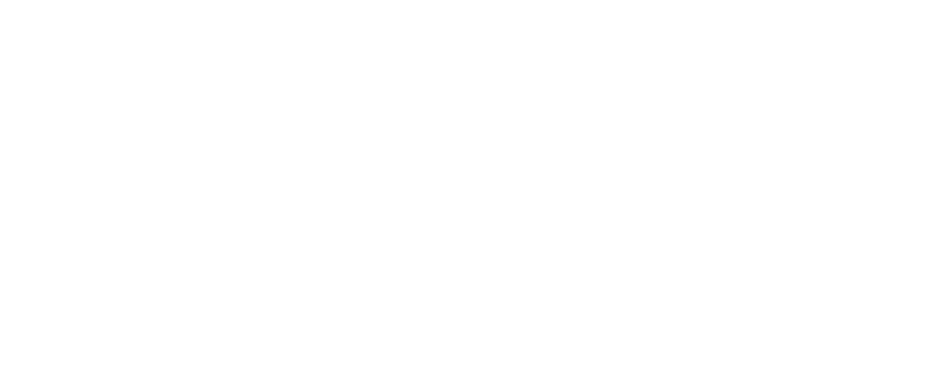
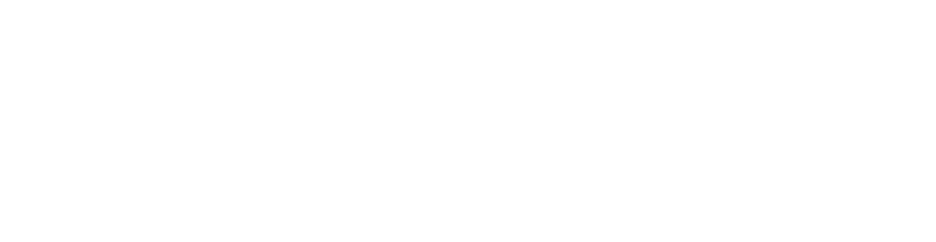
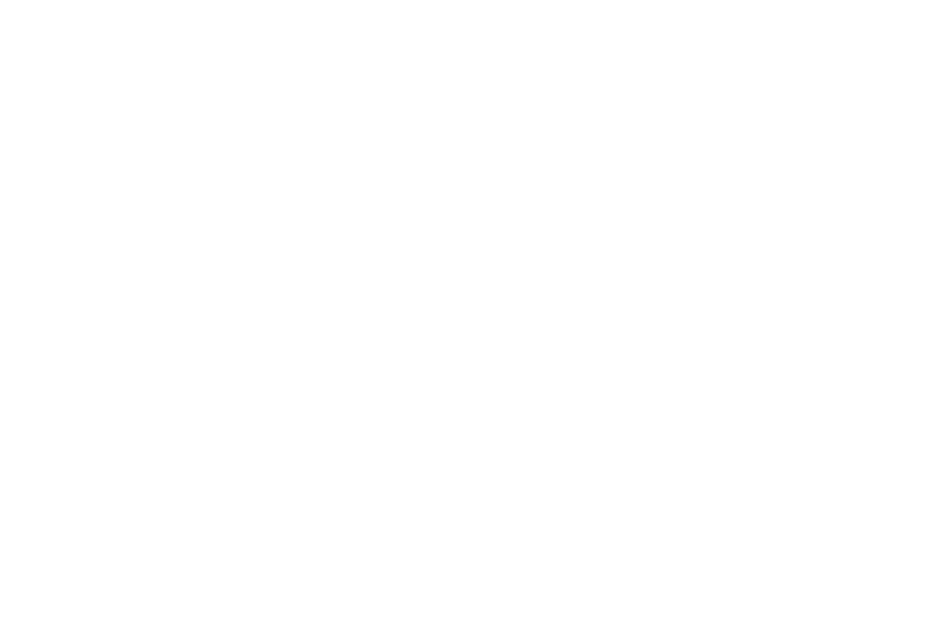
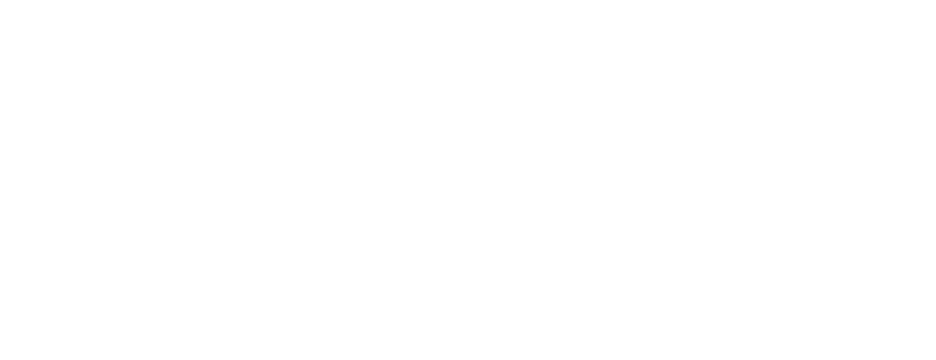
Все дома были деревянными, одноэтажными.
Еще одним бедствием села были болезни, от которых в первую очередь страдали дети. По метрическим книгам, где записаны даты рождения, свадеб и смерти, можно проследить особо тяжелые периоды. В начале 1840-х годов была эпидемия кори, умерло много детей. В конце 1850-х годов свирепствовала скарлатина.
Новорожденные дети умирали очень часто «от поноса», «от колик», «от сухотки», «от врожденной слабости», как писалось в метрических книгах. Молодые люди часто умирали от чахотки. Нередки были случаи насильственной смерти, как и болезней от пьянства. В иные годы количество умерших превышало количество рожденных.
Женились в юном возрасте, в 20, 21 год чаще всего уже имели семью. Семьи были очень большими, женщины рожали почти каждый год и к 30 годам могли иметь уже восемь-девять детей. Имена давали по святцам, поэтому родившиеся в одну неделю часто крестились одинаковыми именами. Преобладали Александр, Михаил, Иван, Василий, Федор, Алексей, у девочек Агрипина, Мария, Александра, Елизавета, Анна.
С середины XIX века коренное население села стало разбавляться приезжими из других губерний, в основном работающими на фабриках. Чаще всего это были Калужская, Владимирская, Черниговская, Смоленская, Тульская, Рязанская, Тверская губернии и различные уезды Московской губернии. Постепенно география приезжих расширялась, в Измайлове жили уже не только крестьяне, но и мещане, купцы, отставные солдаты и т.д. Они также заводили семьи, рожали детей. Случались и внебрачные дети, в 1910-е годы все чаще. Например, в 1914 году в селе Измайлово родилось 17 внебрачных детей. Но продолжительность жизни увеличилась, очевидно, что улучшилось и медицинское обслуживание.
Избы села Измайлово просуществовали до 1970-х годов.
Еще одним бедствием села были болезни, от которых в первую очередь страдали дети. По метрическим книгам, где записаны даты рождения, свадеб и смерти, можно проследить особо тяжелые периоды. В начале 1840-х годов была эпидемия кори, умерло много детей. В конце 1850-х годов свирепствовала скарлатина.
Новорожденные дети умирали очень часто «от поноса», «от колик», «от сухотки», «от врожденной слабости», как писалось в метрических книгах. Молодые люди часто умирали от чахотки. Нередки были случаи насильственной смерти, как и болезней от пьянства. В иные годы количество умерших превышало количество рожденных.
Женились в юном возрасте, в 20, 21 год чаще всего уже имели семью. Семьи были очень большими, женщины рожали почти каждый год и к 30 годам могли иметь уже восемь-девять детей. Имена давали по святцам, поэтому родившиеся в одну неделю часто крестились одинаковыми именами. Преобладали Александр, Михаил, Иван, Василий, Федор, Алексей, у девочек Агрипина, Мария, Александра, Елизавета, Анна.
С середины XIX века коренное население села стало разбавляться приезжими из других губерний, в основном работающими на фабриках. Чаще всего это были Калужская, Владимирская, Черниговская, Смоленская, Тульская, Рязанская, Тверская губернии и различные уезды Московской губернии. Постепенно география приезжих расширялась, в Измайлове жили уже не только крестьяне, но и мещане, купцы, отставные солдаты и т.д. Они также заводили семьи, рожали детей. Случались и внебрачные дети, в 1910-е годы все чаще. Например, в 1914 году в селе Измайлово родилось 17 внебрачных детей. Но продолжительность жизни увеличилась, очевидно, что улучшилось и медицинское обслуживание.
Избы села Измайлово просуществовали до 1970-х годов.